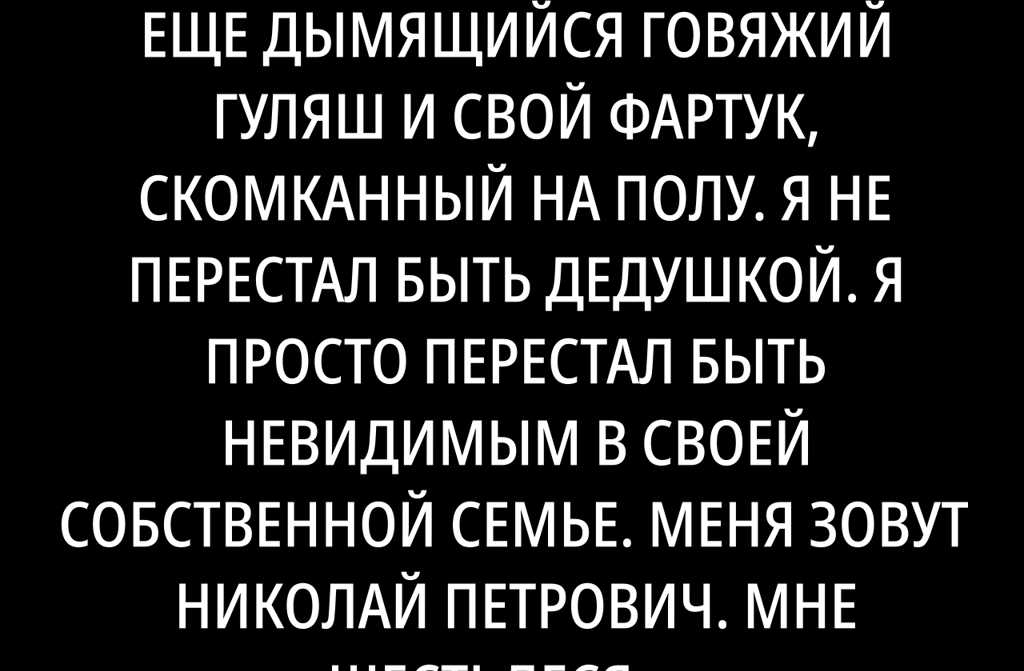Я вышел сегодня вечером из дома сына, оставив на столе еще дымящийся говяжий гуляш и свой фартук, скомканный на полу. Я не перестал быть дедушкой. Я просто перестал быть невидимым в своей собственной семье.
Меня зовут Николай Петрович. Мне шестьдесят восемь лет, и последние три года я тихо управлял хозяйством сына Игоря, не получая ни копейки, ни благодарности, ни отдыха. Я тот самый «старший» из деревни, о котором принято вспоминать с теплом но сегодня стариков ожидают, что они будут тянуть лямку молча и безропотно.
Я из того времени, когда сбитые коленки были частью детства, а уличные фонари означали, что пора возвращаться домой. Когда я воспитывал Игоря, ужин всегда был ровно в шесть. Ел то, что давали, или оставался голодным до завтра. У нас не было тренингов по эмоциям была ответственность. Это не было идеально, но вырастило детей, способных терпеть, уважать труд и стоять на своих ногах.
Моя невестка Екатерина не плохой человек. Она заботливая мать, обожает своего сына Аркашу. Но она боится боится наклеек на продуктах, совершить «ошибку», задавить его индивидуальность, получить осуждение в соцсетях.
Из-за этого страха в доме командует восьмилетний Аркаша.
Он смышленый и добрый, когда хочет, но ни разу не услышал «нет», не устроив из этого торга.
Сегодня была вторник мой самый длинный день. Я приехал до рассвета, чтобы Аркаша успел на школьный автобус: ведь и Игорь, и Катя вкалывают на высоких должностях, чтобы платить за большую квартиру, в которой почти не бывают. Я постирал белье. Выгулял собаку. Разобрал кладовку, где дорогие эко-продукты стоят рядом с обычными макаронами, которые я покупаю на свою пенсию.
Я хотел, чтобы этот вечер был уютным. Четыре часа варил по-старинке гуляш говядина, картошка, морковь, лавровый лист такое блюдо насыщает дом теплом и воспоминаниями.
Игорь с Катей вернулись поздно, не отрывая глаз от смартфонов, обсуждая дедлайны. Аркаша развалился на диване с планшетом, наблюдая за чужими криками о компьютерной игре.
Ужин готов, сказал я, ставя блюдо на стол.
Игорь сел, не отрываясь от экрана. Катя нахмурилась.
Мы стараемся меньше есть мясное, тихо заметила она. А морковь точно органическая? Ты же знаешь, у Аркаши аллергия.
Это ужин, сказал я. Это настоящая еда.
Игорь позвал Аркашу. Ответ с дивана:
Нет, я занят!
В мое время экран бы тут же погас. Сегодня ничего не произошло.
Катя пошла уговаривать сына я слышал ее торг, обещания, попытки понять. Эмоции.
Аркаша пришел с планшетом, посмотрел на еду, отодвинул тарелку:
Фу, гадость какая! Я буду котлеты!
Игорь молчал. Катя пошла в сторону морозилки.
В этот момент что-то внутри во мне оборвалось не злость, а печаль.
Садись, сказал я.
Она остановилась.
Пусть ест то, что на столе, или встает, спокойно произнес я.
Игорь впервые оторвался от телефона: Не начинай. Мы устали. Не надо его травмировать.
Травмировать? сказал я. Вы считаете, что отказать в котлетах это травма? Вы учите его, что все должны стелиться под его желания. Что чужой труд ничего не значит.
Мы придерживаемся «бережного воспитания», холодно бросила Катя.
Это не воспитание, сказал я. Это капитуляция. Вы боитесь его недовольства, отдали ему центр семьи. Я тут не семья я прислуга.
Аркаша заорал и бросил вилку. Катя кинулась его утешать:
Дедушка просто расстроился, сказала она.
Вот тогда я окончательно устал.
Я развязал фартук, аккуратно сложил его рядом с нетронутым ужином.
Ты права, сказал я. Я действительно расстроился. Расстроился, что мой сын стал сторонним наблюдателем в собственном доме. Расстроился, что ребенок растет без границ. Расстроился, что меня тут не уважают.
Я взял свою сумку.
Ты уходишь? спросил Игорь. А завтра кто останется с Аркашей?
Никто, сказал я.
Ты не можешь просто уйти!
Могу.
Я вышел на тихую московскую улицу.
Нам нужна твоя помощь! позвала Катя. Родные должны помогать друг другу!
Деревня держится на уважении, ответил я. Здесь не деревня тут сервисное окно. А оно закрыто.
Я ехал долго и остановился в парке. Сел в машине, открыв окно, слушая запах мокрой травы после дождя.
И тут я увидел их крошечные светлячки, мерцающие в высокой траве.
Когда Игорь был маленьким, мы с ним ловили светлячков в деревне под Тверью. Любовались ими и отпускали. Мы учили его: красоту нельзя контролировать.
Я смотрел, как они танцуют.
Телефон дрожит из-за звонков и сообщений. Извинения. Упреки. Попытки вызвать жалость.
Я не отвечаю.
Мы ошибочно думаем, что дать ребенку всё значит дать себя. Мы променяли живое общение на экраны, а дисциплину на удобство. Мы боимся ему не понравиться и в итоге не даем ему силы вырасти человеком.
Я люблю внука достаточно, чтобы он научился справляться сам.
Люблю сына достаточно, чтобы он чему-то научился.
И впервые за долгие годы люблю себя настолько, чтобы вернуться домой, спокойно поесть и отпустить светлячков.
Деревня закрыта на ремонт.
Когда откроется снова, вход здесь будет только по уважению.