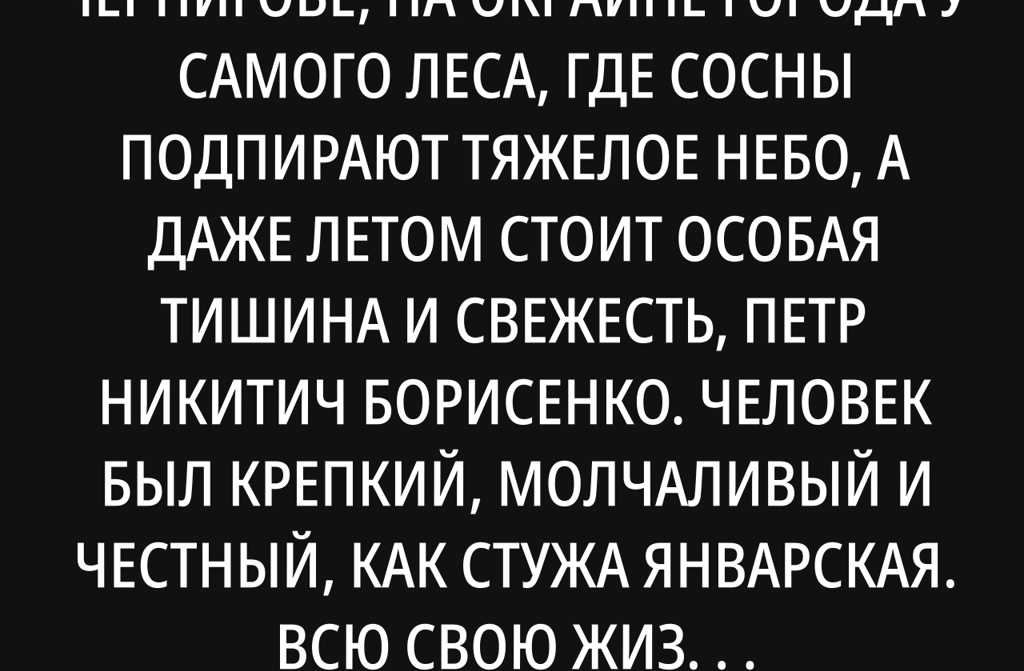Яблоки на снегу…
Жил в Чернигове, на окраине города у самого леса, где сосны подпирают тяжелое небо, а даже летом стоит особая тишина и свежесть, Петр Никитич Борисенко. Человек был крепкий, молчаливый и честный, как стужа январская.
Всю свою жизнь проработал он в лесном хозяйстве, знал каждый овраг, каждую звериную тропу, где белка проскочит, а где лиса заныкается. Руки у него были огромные, в мозолях, черные от смолы казалось, живица въелась в него навек. Сердце тоже, словно вырезано из закалённого дуба: надёжное, верное, но непокорное.
С женой своей, Катериной, прожил тридцать лет, не разлей вода были. Люди на них смотрели, как на пару образцовую, сплошная зависть по двору ходила. Вечерами Петр на лавке у крыльца тихонько на бандуре перебирал, а Катерина ему подвывала так ладно и по-доброму, что мимо пройдешь и не заметишь, как улыбнуться начнешь. Дом у них как картинка: ставни вырезные, голубые, как глаза Катерины, палисадник в георгинах, а в саду яблони аккуратные, плотно посаженные.
Помню, как они сад свой яблочный сажали. Петр ямы копал, землю рыхлил и корни расправлял, а Катерина саженцы держала так заботливо, будто младенца приголубливала. Приговаривала: “Растите, миленькие, на радость нашим детям и нам на утеху”. А Петр глядел на жену, пот с лица утирал и по-детски улыбался. Засветился тот сад весной весь в белой пене, а осенью полные ветви наливных, медовых.
Но Бог у людей не спрашивает, когда разлучить. Катерина быстро ушла всего за три месяца притихла, угасла, словно лист осенний, и ночью ушла в мир иной, держась за руку мужа. Петр тогда померк, осунулся, ни слезы, ни вскрика. Только губы сжал, а волосы за одну ночь побелели.
Остался он с дочкой своей Марьей. Девушка была для отца всем светом. Любил он ее безмерно, но по-своему, сурово. Баловать не умел. Боялся до дрожи в руках: вдруг и дочери не станет, и останется он совсем один. От этого страха он и губить себя начал стал ее стеречь, будто алмаз, шагу не давал ступить.
Ты, Марья, моя надежда и радость, говорил он неловко, гладя по голове широкой ладонью. Вырастешь, хозяйкой будешь, дом этот тебе оставлю. Не пущу тебя никуда, незачем чужое искать все беды там, все волки
Марья росла красавицей: коса золотая по пояс, глаза лазурные, в отца. А голос! Как заголосит украинскую песню на огороде, так и ветер замирает. Хлопцы косы кладут, бабы крестятся, слезу роняют. Талантище был у Марьи от Бога, ей бы в певицы идти, по городу выступать, музучилище окончить. Училась на слух, пластинки крутила до скрипа на старом бабушкином проигрывателе.
Петр по-другому думал, крестьянским умом: “Где родился там и годишься”, боялся города больше огня. Всё грозился: «В доярки пойдёшь, за Василия пойдёшь парень что надо, дом строит, работяга!». А Марья мечту не придавила. Однажды поздним дождливым октябрем взяла чемодан из фанеры, и ушла в Харьков, да так решительно, что сердце у отца разорвалось.
Кричал он ей вслед, ругался, пообещал на порог не пустить. Когда хлопнула калитка за дочерью, он топор в ступени врубил. Щепки как капли крови.
Годы шли. Двенадцать зим, двенадцать весен. Дети в селе выросли, кто с армии вернулся, кто женился. А дом Петра стоял немым памятником его беде. Сад одичал, яблони заросли дикой порослью. Крыльцо скошено, топор ржавым пятном в дереве.
Однажды минувшим ноябрем ударил первый мороз двадцать шесть по Цельсию, ветер с Десны пробирает до костей. Вижу дым из трубы не идет, а собака старая, Рекс, даже с будки не срывается, лишь хвостом мелко бьет, скулила.
Захожу в дом ледяная стужа, вода во всех ведрах покрыта коркой. Петр лежит в тулупе, трясётся, бредит:
Катя… Где Марья…? Пусть споет… тянет едва слышно измученным голосом.
Я и растопила печь, чай заварила, лекарства дала, осталась на ночь дежурить. Под утро жар ушёл. Пришёл он в чувство, смотрит уныло:
Оля… Я все жду. Каждый день выглядываю. Письма писал кто-то, но я почтовый ящик заколотил. Думал Марья забыла.
Не забыла, отвечаю, почтальонша Оксана хранила письма твои. Вот они, целая коробка.
Как Петр читал не рассказать: пальцы дрожат, слёзы текут строем. Фотографии внуков нашёл целует их, за сердце хватает.
В одном письме обрывок номера телефона. Недосчитались последних четырёх цифр. Пытался я помочь пошла к Мише, соседу молодому, он на айтишника учится, быстро компьютеры включает.
Миша, поищи во “ВКонтакте” и в “Одноклассниках”, вдруг найдете.
Нашли! Фото Марьи, статус: “Скучаю за домом”. Написали вечером она ответила, номер мужа дала.
Петр не может дозвониться рука дрожит, сердце выскакивает. Наконец голос суровый:
Кто это?
Это… Петр… отец Марьи
Пауза тяжёлая.
Вдруг в трубке голос Марьи спокойный, но напряжённый:
Зачем вы звоните, папа? Что случилось?
Петр просто сказал:
Умираю я, дочка, виноват… Прости, хоть на прощанье голос твой услышу?
Она долго молчала, потом тихо:
Приезжаем, папа, и повесила трубку.
Он сидел после разговора даже не рад, просто облегчение на лице, будто камень с плеч. Вся деревня помогла дом отмыли, яблоки урожайные собрали.
И вот утро. Машина “Жигули” калёные на дворе. Вышли: Марья, её муж Артем, внуки. Петр стоит с морщинистой шапкой в руках. Марья подошла, остановилась.
Здравствуй, папа, сказала она тихо.
Здравствуй, Марья.
Она шагнула и обняла его осторожно, сдержанно, будто боится. Он прижал её крепко-крепко, лицо уткнул в её шарф и беззвучно затрясся. Слёзы катятся у неё по щекам, но нет уже бурной злости только тихая горечь.
В доме тишина, за столом каждый в своих мыслях. Артем хмур, внуки прячутся у мамы.
Петр поднял рюмку, руки дрожат:
Спасибо, что приехали. Мне бы только вас всех увидеть…
Артем вздохнул:
Вы ждали много лет. Давайте попробуем простить друг друга. За встречу.
Потом младший внук, Димка, вдруг спросил:
Дед, а почему у тебя в куске крыльца топора нет? Мама рассказывала.
Марья резко оборвала:
Дима, ешь!
А дед только криво улыбнулся:
Сгнил топор, внучек. И злость моя сгнила. А завтра пойду тебе показывать лес.
И три дня они в доме жили, вроде чужие, но родные. Петр боялся громко сказать или не так глянуть. На третий вечер пришла Марья ко мне глаза красные.
Тетя Оля, сердце мое неспокойно. Обиду отпустить не могу.
Я ей дала сладкого чаю с мятой:
Попробуй пожалеть, не злиться. Представь, как он жил эти все годы. Ты ведь в себе доброты больше носишь, чем зла.
Она долго смотрела в окно. Потом сказала:
Сегодня папа грел ботинки Вере у печи, как раньше мне. И стало внутри легче.
Через неделю уехали, пообещали летом приедут. Вернулись. Весной сад зацвел, как и много лет назад: белое солнце из цветов, аромат на весь двор.
Вижу сидят они на лавке, плечом к плечу. Вера плетёт веночек, дед с Марьей молчат, только в глаза друг другу глядят и смотрят на закат.
Оля Яковлевна! зовёт дед, заходи, чай с яблочным вареньем! Марья наварила, прозрачное, как мед!
Пьем чай, смеёмся. Говорят, склеить можно разбитую чашку и трещинка останется, и всё равно чай в ней вкусный.
Жизнь ведь короткая как январский закат за городом. Вечно откладываешь: “Успею простить, успею позвонить” а завтра может и не быть. Дом остынет, телефон умолкнет, а письма свои никто не прочтет.