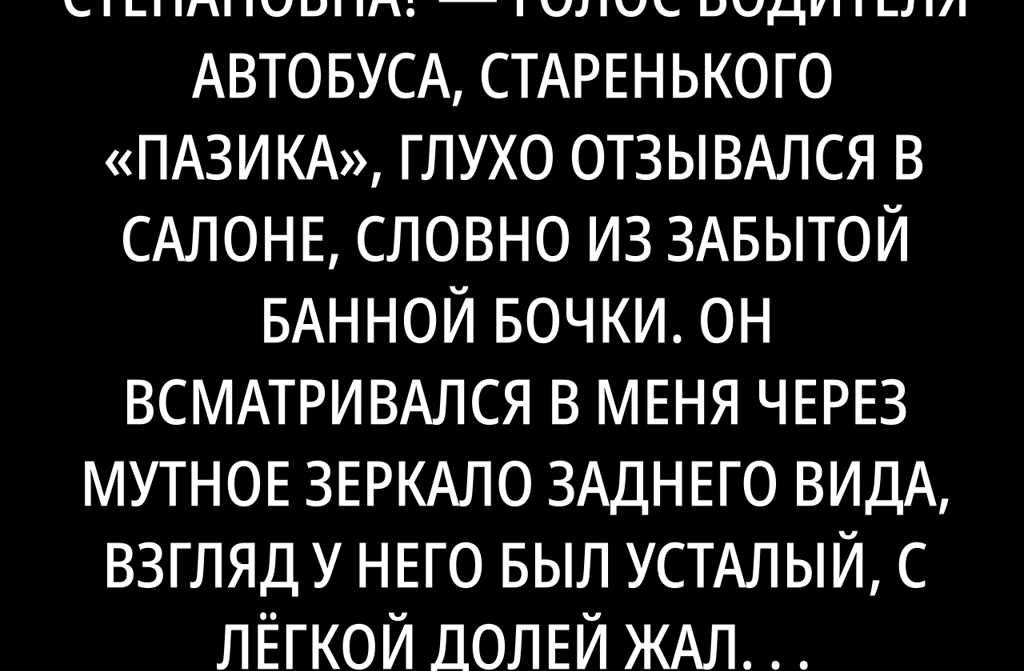Вы хорошо подумали, Марья Степановна? голос водителя автобуса, старенького «ПАЗика», глухо отзывался в салоне, словно из забытой банной бочки.
Он всматривался в меня через мутное зеркало заднего вида, взгляд у него был усталый, с лёгкой долей жалости и искреннего недоумения.
Я пожал плечами и только глянул в окно, не захотел больше расспрашивать себя самого, буду ли я жалеть о решённом.
Лестница там ух, крутая, ступени еле держатся, поскользнёшься голова кругом да и ногу свернуть недолго. Крыша старая, если пойдёт дождик будто в подводной лодке, только перископа не хватит. Автобус сюда раз в неделю, только если без оттепели, а сейчас осень на носу раскиснет дорога, трактор не поможет.
Я стоял на размытом просёлке у старого указателя, в руке советский чемодан с оторванной пряжкой. Ветер рвал полы пальто, задирал на мне плотный шерстяной платок, ищет, как проникнуть под мою защиту.
Да я не барин, Семён. Дождя я не боюсь, отвечаю спокойно, поправляя седую выбившуюся прядь под платком.
И тут примчался на скрипучем велосипеде наш почтальон, Фёдор, вечно при деле велосипедом разнося письма, а свободное время сдаёт жильцам развалившегося района за копейки газеты. Он затормозил рядом, взглянул на дом за дикой сиренью, глянул на пустынную улицу кругом звенела пыльная тишина, только тополя шуршали да где-то хрипло гавкала соседская Түзик.
Марья Степановна, вы ведь человек городской. В городе у вас уютно, свет горит, батареи топят, а здесь… Электричество пляшет лампочка то тусклая, то яркая.
Я улыбнулся краешками губ, но глаза серьёзные, как воды осенней Волги:
Сорок лет в школе отработал, Фёдор. Там гам, визг, звонки будто нож режет воздух. Всё в спешке, мел в лёгких, утомительная гонка, нервы как струна. А здесь память. Слушай! Какая тишина! Тут мысли слышны. Тут покой, Фёдор, и мне этого покоя сейчас больше всего и надо.
Почтальон воздохнул, перестав с ноги на ногу, натягивая ремень тяжёлой сумки.
Ну, ладно. Ваше дело. Если будет что вывесьте на калитке что яркое, я по вторникам и пятницам проезжаю. А соседке, Прасковье Парамоньевне, передам, пусть присмотрит. Строга, но добрая.
Спасибо. Ступай, туча к горам подбирается гроза будет…
Я смотрю ему вслед. Последний скрип цепи, и связь с миром будто растворилась в предгрозовой округе. Всё: осталась только я и этот старый дом.
Я распахнул калитку жалобно скрипнула на ржавых петлях, будто жалуется на просроченную смазку. Двор в бурьяне, лопухи как зонты, крапива обступила крыльцо плотным кольцом.
Я шагнул на ступени, вынул тяжёлый ключ. Замок сопротивлялся, а потом сдался, хрустнул и впустил меня в дом, наполненный духом сырости, мышей и застоявшегося времени.
Стою в комнате. Всё под белыми накидками словно лежит снег. Мне шестьдесят пять. Высокий, сухощавый осанку не согнуло горе, взгляд выучен видеть каждую ошибку в тетрадке. Снаружи хрупок, а внутри пусто и холодно.
Этот холод поселился во мне год назад, когда ушла моя Вероника инсульт, во сне, безмолвно. С однушки в Самаре меня выгнала память всюду запах её духов, тёплая чашка на кухне, книги с её закладками. Всё стало клеткой. Дети звали к себе, но я знал: там я лишний, как старый торшер в новом евро-ремонте.
Я вернулся. Квартиру сына сдал, вещи сложил и приехал в родительский дом в село под Самарой. Колхоз развалился, осталось пять дворов, а поля заросли бурьяном уходит в прошлое, как покрывало из серых волн.
Дом мой не новый, но крепкий пятистенок, прадед строил бревно, как старое серебро, поседело от ветра, но дом жив, только крыша просит ремонта мох да щели везде.
Зажёг керосиновую лампу электричество, как предсказал Фёдор, не работает. Чердак лестница крутая, пахнет сухой пылью, яблоками и старым сеном. Луч у трубы там шифер треснул, и сквозь щель пробивается свет.
Ну что, старина, шепчу себе, гладя рукой по дереву. Будем лататься, и ты и я, вдвоём достойно подскрипим.
Где-то гремит гром дом отвечает дрожью стен.
Несколько недель ушли на выкорчёвывание запустения. Руками, привыкшими к указке, пришлось таскать ведра, мыть доски до блеска. Боль в ладонях заглушала тоску в сердце.
Печка белая, как невеста, просияла после побелки. Двор я очистил, крыльцо освободил от крапивы, свет двору вернул. Но чердак… Протекающий, с мусором трёх поколений: газеты, старые валенки, разбитые скамьи.
Соседка, Прасковья Парамоньевна, часто заходила за солью или словом только Цокала языком:
Бросать надо, Стёпаныч! Дом труха, крыша течёт. На одну пенсию с ней не справишься. Осень считай, конец: сырость, дрова, силы нужны.
Да ничего, Прасковья, вытираю пот. Глаза боятся, руки делают. Отец этот дом не для гнили строил, а для жизни.
Решился и стал плотником. Нашёл в сарае кусок рубероида со смолой, нагрел на костре, взял молоток и стал разбирать завалы у трубы.
На четвёртый день под проливным дождём наткнулся на странность. Под сундуком половая доска лежала ниже остальных, короткая, будто чужая. Поддел стамеской скрипнул механизм, и под доской я обнаружил старую жестяную коробку из-под сахара.
Вынул её, вскрыл внутри серьги, кольца, гривны из серебра. Всё старинное, массивное, ещё, видно, со времён царя. Приданое: за такое добрую двушку в Самаре можно купить. Но сейчас, в сумраке чердака это просто металл.
Под серебром нащупал плотный свёрток из холста с книгой толстая тетрадь в облезлой кожаной обложке. Почерк резкий, острый, почерк моей прапрабабушки Евдокии, местной травницы и ткачихи.
Серебро перебираю но руки тянутся не к нему, а к тетради. На первой странице аккуратно написано:
«Лён-волокно и красящие травы. Как в поле живёт, на холсте светится, да хвороба не пристаёт».
Читаю и забываю про всё. Тут не просто рецепты ткачества, а цельная философия, забытая в гонке за прогрессом.
«Лён сажать в полнолуние, на тяжелую росу нить будет крепче, а душе светлее».
«Отвар корня марены красный цвет, что греет кровь и хранит от сглаза».
«Узор защитный сон старику возвращает, младенца убаюкивает».
Затянуло. Пенсии ни на что не хватит, огород ещё сорняк, а крыша всё течёт. Серебро бы продать, да что-то внутри не даёт.
Прячу серебро в буфет, тетрадь и холстовые семена забираю в комнату.
К концу недели крышу латаю. Руки в мозолях, но вечер за учебниками словно к экзамену готовлюсь.
Горсть семян указание: замочить в талой да серебряной воде. Посмеялся, да вскинул серебряную монету с клада в кружку.
На рассвете выкопал грядку на южной стороне земля тяжёлая, но согрелась быстро. Сею лён по-старинке, чуть ли не молитву шепчу. Тоска ушла. Вместо неё цель: первую зелень дождаться.
Через пару недель грядка зеленеет. За это время отмыл-собрал в сарае старый ткацкий стан всё вновь заработало, запах льна остался.
Первый тканый рушник получился удивительный тяжёлый, но тёплый, будто светится.
Пошёл к Прасковье:
Прими, соседка, за помощь.
Потрогала руками ткань чуть не прослезилась:
Где такому научился? Городская синтетика до этого не дотягивает.
Бабкин секрет.
Осенью стал полосы плести лекарственные, травы вплетать. Фёдор разнёс весть по району. Женщина за десять вёрст приехала скатерть на свадьбу заказать.
Смысл в жизни нашёлся, но внутри болит за сына.
Звонок вечером, когда станок застучал:
Папа?.. Это Костя.
Голос далеко, надломленный.
Что случилось, сынок?
Всё плохо… Завал с бизнесом. Суды, долги, квартиру заберут, а у Вероники экзема в кровь расчесала, врачи руками разводят. Маша (жена) нервничает, как собаки друг на друга. Маша хочет приехать к тебе пару дней хоть выдохнуть. Примешь?
Конечно, Костя, выезжайте хоть сейчас.
Приехали в пятницу внедорожник застрял на колее, грязь по сторонам летит. Костя выходит серый, усталый. Маша – заплаканная, без макияжа. Вероника ребёнок, тоненькая, в бинтах на руках.
Привет, дед, тихо.
Привет, Верунчик, настоящий молодец! прижал к себе.
Дом непонятно какой ты выбрал, пап. Жить тут тоска.
Земля держит. Проходите в тепло.
В доме травяной запах, хлеб свежий. Маша озирается боязно: всё старое, ковры, дерево.
А тут пылью не пахнет? Ей строгое место надо, гипоаллергенную обстановку
Тут пыль не городская, полевая. От неё вреда не будет.
Ужинали молча. Костя ел нехотя, глазами на телефоне. Маша кормила дочь банкой с диетической кашей.
Ночь мука снова. Ребёнок не спит, чешется, плачет, мази не помогают.
Я не выдержал захожу, держу самодельную рубашку из «лунного» льна:
Попробуй вот это. Сам прял, с чистотелом, в росе вымоченный.
Маша устало вздохнула, махнула рукой: хуже не будет. Одели ребёнок затих, шарит ладошкой по ткани и… засыпает.
Утром встаю дочь спит до девяти. Костя на кухне, в глазах удивление:
Пап, она всю ночь не просыпалась. Кожа чище стала.
Лён вылечит, сынок, потому что с душой всё делалось.
Это ж не волшебство? усмехается.
Ремесло, забытое дело.
Три дня ребёнок здоров, бегает по двору. Маша меняется интересуется тканью, узорами, расспрашивает.
Вы понимаете, Степаныч, что это? Это же модный эко-стиль! В Москве за изделие из такого ткани начнут выхаживать очереди.
Воскресенье пригласила Прасковья с мужем на ярмарку в райцентр, праздник города.
Семья помогает стол разложен, салфетки, пояса, травы.
Подходит женщина в очках, элегантная, представляетcя:
Илона Александровна, владелица магазина в Москве. Такого льна давно не видела. Возьму всё, что есть, и хочу на заказ для бутика. Назовите цену.
Возвращаемся домой выручка для меня не деньжищи, а признание.
Костя в зеркале бросает взгляды в его глазах не жалость, а уважение.
Пап, я думал ты тут на старости выл от одиночества, а выходит, дело с толком нашёл, и не лёгкое, а настоящее.
В ту ночь не спал, думал о долгах сына, о том, что руки у него дрожат. Встал, достал в буфете серебро ту самую коробку.
С утра за завтраком сложил драгметалл на стол:
Костя, забирай. Закрой долги, квартиру спаси, живите спокойно.
Повисла пауза.
Папа, ты с ума сошёл? Мы твоё последнее утащим?
Моё это дом, станок и тетрадь. А вам жить надо. Бери, не спорь.
Костя помолчал, взял гривну вернул обратно:
Спасибo, но просто проедать не будем часть сдаём, самое срочное закроем, а остальное вложим в дело. Ты прав тут золотая жила. Открываем цех, зовём соседей, делаем бренд «Лён Степана». Маша возьмется за продажи через интернет, я за бизнес. Всё, держим фронт вместе!
Я гляжу на сына, и понимаю: он стал снова тем, кем гордился бы любой отец.
Прошёл год.
Вокруг деревни теперь лён голубым полем шумит. Появились новые электролинии, дорога подсыпана щебнем. Дом засверкал новой крышей, веранда обвита диким виноградом, в мастерской уже не один, а пять ткацких станов. Прасковья и другие женщины работают, песню заводят, смех ребячий слышно.
Во двор въехал уже рабочий пикап. Вероника румяная, чистая, веселая. Вприпрыжку ко мне:
Деда! Каталоги из Москвы привезли!
Следом Маша, в новом льняном сарафане с васильками беременна, светится улыбкой. Костя разгружает коробки и шутит:
Пап! Французы из Прованса за образцами звонили! Русский лён нынче в моде!
Беру каталог: на обложке фото мои руки на станке, и надпись: «Нити судьбы. Возвращение традиций».
Я вспоминаю свой первый день здесь чердак, пыль, пустоту. Думал: ищу покой, а нашёл новую жизнь. Думал клад это серебро. Нет. Настоящий клад тетрадь с секретами и горсть семян, что воскресили не только дом, но и внутренний свет во мне и в семье.
Серебро сыграло роль в самом начале купили оборудование, семена, трактор. Но настоящую силу дал не металл, а живая нить ткачество, люди, детский смех. В этом доме теперь только белые дни. Это и есть настоящий клад.
Ну что стоим? громко крикнул я, вытирая набежавшую слезу краем рукава. Самовар остывает, пироги с грибами ждут.
Семья собирается за столом, смеются, дом полон жизни, а синие волны льна за окном поют на ветру.
В нашей округе теперь рассказывают про чудо-лён Степана. А про серебро знают только свои. Да это уже и не важно.
Для меня главное, что я смог вернуться к своим корням ради будущего, ради детей и внуков. Даже на самом пыльном чердаке можно найти ту нить, что сплетёт разорванную жизнь в крепкое, красивое полотно.
«— Вы всё обдумали, Мария Ивановна? — глухо спросил водитель старенького “ПАЗика”, глядя в зеркало с…